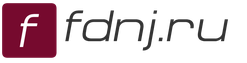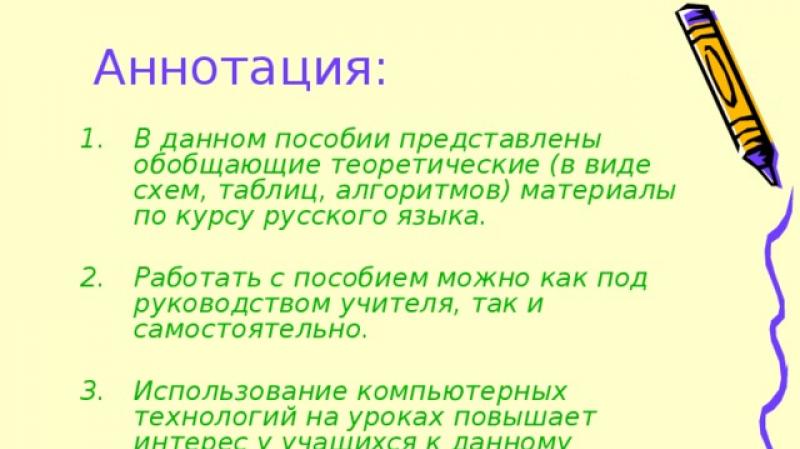Про лагеря и тюрьмы читать. Первоход в тюрьме (рассказ рецедивиста) - gg_nohia
Виктор Чира.
«… Слово Мое не бывает тщетно…».
После российских северных лагерей, зона особого режима: Караулбазар, показалась мне настоящим санаторием. Узбекский городок, в котором находился лагерь, был расположен в полупустыне, в Бухарской области. Летняя жара доходила в данной местности до пятидесяти с гаком в тени, по Цельсию и, тем не менее, жизнь здешняя мне понравилась. В зоне имелся вор в законе, человек с Кавказа, и рядом с ним команда приближенных, козырных фраеров разной национальности.
Наличие организованных урок, гарантировало в лагере твердый «порядок», т.к. все представители администрации были куплены или запуганы, а начальник колонии и его заместитель по режиму, во всем находили компромисс с жуликами. Жизнь в колонии была спокойной, регламентированной и предсказуемой. Любой арестант мог спокойно жить и иметь все блага, допустимые в условиях каторги. Свободно продавалось и передавалось с воли практически все: продукты, спиртное, наркотики, сигареты и даже женщины. Беспредел строго пресекался, никто никого не мог обидеть незаслуженно и внешне во всем следовали воровскому закону.
Периодически приезжали представители блатного мира, которые свободно заходили на территорию лагпункта и общались с местным «блаткомитетом». Никто не мог безнаказанно сделать, что-либо непотребное или приносящее вред коллективу. Назначенные вором в законе, смотрящие поддерживали надлежащий порядок. Периодически из общака выделялись мужикам сигареты, чай, анаша и все были довольны. В лагере практически не совершались побеги и другие преступления, что было на пользу администрации. И, конечно же, руководство лагерем имело соответствующую мзду и так же не возражало против устоявшегося статус-кво.
Бараки, в которых мы жили, были разделены на камеры по шесть - восемь зеков в каждой. По регламенту, мы должны были в свободное время находиться под замком, но фактически камеры никогда не закрывались, мы свободно перемещались по всей территории в любое время дня и ночи. Иногда нас запирали под замок, это означало приезд комиссии из столицы или прокурора по надзору. В такие дни народонаселение лагпукта усиленно изображало из себя заключенных примерного поведения.
По распределению я попал в восьмой барак, в камеру номер шесть, где находились пятеро разновозрастных мужиков, живших не очень дружно между собою. Каждый из них имел, какой либо побочный источник дохода, но жили они, между собой обособленно, и коллектив не сложился. Валерка, мастер по изготовлению выкидных ножей, был пьяница, он периодически напивался и устраивал дебоши. Его успокаивали, иногда били, но не сильно, а для науки. Были еще мастеровые, делавшие пистолеты – зажигалки и прочий ширпотреб, имевший спрос. Наша камера выглядела вполне зажиточно на общем фоне и мужики не имели нужды в продуктах и других необходимых вещах.
Как-то незаметно получилось, что я, хотя и был пассажиром залетным, т.е. приехавшим из России, нашел подход ко всем сидельцам в камере и незаметно объединил всех её обитателе. И вскоре мы вечерами уже совместно ужинали, делясь припасами, и перед сном покуривали анашу или употребляли спиртное. Микроклимат в камере изменился, и это всем нравилось, стало проще жить в таком колхозе, где действовала взаимовыручка. Мы сдружились настолько, что когда братва, смотрящая за бараком, из четвертой камеры пригласила меня переселиться к ним, я вежливо отклонил предложение.
Среди народонаселения нашего барака был один зек, отсидевший уже более двадцати лет по прозвищу «Чира». Он имел двойную фамилию: Черкашин-Арсентьев и зеки сократили её до «Чира». Этот индивидуум выделялся на общем фоне тем, что совершенно не употреблял спиртное, наркотики, не курил и даже занимался спортом. В его камере была целая библиотека книг разной тематики, которые он читал и любил беседовать на любые темы. Я тоже был большим любителем книг и часто брал у него почитать что либо. Вдобавок ко всему, Чира был очень разговорчивый человек, с хорошо подвешенным языком и если он заходил в гости, то уходил не скоро и после его визита у братвы болели животы от смеха. Веселый и разговорчивый был хлопец, достаточно эрудированный и очень общительный.
Однажды я узнал, что у Чиры есть Библия, и он переписывается с верующими бабулями из Совета Церквей, и они прислали ему эту редкую книгу. Это был 1988 год и о Библии я знал лишь то, что в ней написано, когда будет конец света и что последним царем будет Мишка меченный. Так же я считал, что если прочитаю Библию, мне сразу откроются все тайны бытия и мироздания. Я стал просить у Виктора почитать Библию, но он не спешил давать её мне, т.к. дорожил этой книгой. И вот однажды вечером, мы после ужина, как обычно выкурили пару косяков анаши, и вели неторопливые разговоры о делах наших скорбных. В это время в камеру зашел Чира и протянув мне тоненькую брошюрку: Евангелие от Иоанна, сказал: « На, вот пока прочитай это». Мои сокамерники уже укладывались спать, а я залез на верхние нары, что бы быть поближе к лампочке и открыл книгу.
Не знаю, читали ли вы книги, предварительно накурившись анаши, но скажу вам, что это трудное занятие. Каждое прочитанное слово вызывало десятки образов и мыслей. Короче говоря, прочитал эту тоненькую книжицу я только с рассветом. Представляю негодование особо праведных верующих; да как это можно! Евангелие и анаша, это непотребство! И я абсолютно с ними согласен, это действительно несовместимые вещи. Но в Библии написано, что Слово Божие подобно мечу обоюдоострому и проникает, разделяя до составов и мозгов. Так случилось и со мною, чтение Слова не прошло для меня бесследно. Меня вскоре перевели в другой лагерь, где я покаялся и стал верующим христианином. Слово Бога прочитанное из в Евангелие, выдавило из меня не только анашу, но и всю скверну, которой я жил раньше.
Чиру я встретил на свободе, где он стал служителем церкви и несет служение до сего дня, он такой же многословный и общительный. Я тоже стал служителем и уже более шестнадцати лет, исполняю пасторское служение. Господь сказал однажды: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете найти в них жизнь вечную, а они свидетельствуют об Мне»
В камере тихо, кто-то спит, кто-то читает.
Вдруг открывается дверь и к нам входит нечто.
За матрасом его не видно, но оно громко рявкает: «Привет братве, достойной уважения! Бля буду я, в натуре, ага».
Матрас летит на пол, проснувшиеся и отложившие книги разглядывают нового обитателя «хаты».
Лысая голова вся в свежих порезах от лезвия. Прохладно, но он в майке. Все руки, плечи и шея в наколках - страшных портачках, нанесенных тупой иглой.
Нас очень заинтересовало такое явление.
«Пассажир», весь подергиваясь и дирижируя себе руками как паралитик-сурдопереводчик, продолжил концерт.
Поочередно подмигивая нам двумя глазами, поощрительно похлопывая каждого по плечу, он заорал: «Чо, в натуре, грустные такие - в тюрьме все наше - ход "черный"! Гуляй, братва!»
Видя обалдевшие лица со всех шконок-вошедший чуть стушевался, забегал по центральному проходу (пять шагов в обе стороны) и задорно предложил: «Ну, чо, бродяги, чифирнем по-арестантски».
Я понял, что можно развлечься, сделал наивную морду и пояснил: «Мы, мил человек, первоходы. Чифирить не умеем. Вон чай, ты завари себе, а мы, посмотрим».
Розеток в то время в камере не было.
Пассажир решительно оторвал кусок одеяла, намазал алюминиевую кружку мылом (чтобы сажа не налипала), повесил ее над унитазом и поджег «факел».
Вскипятил воды, щедро сыпанул чая, запарил.
Сидит, давится в одно жало.
Видно, что не привык к густому напитку.
Кривится, тошнит его сильно, но он крепится - ведь чифир все рецидивисты пьют.
Я спросил его: «Скажи нам, о мудрейший, а зачем чифир хлебают? Мы слышали, что от него кончают?»
Чифирист согнулся и закаркал (этот звук у них смехом зовется):
«В натуре, земеля, кто тебе такую лажу пронес? Просто чифирок кровь гоняет, бодрит. Я как его не попью - дураком себя чувствую».
- «Видно, давно ты не пил, - заметил я.»
Новичок не понял подначки и начал рассказывать нам про тюремные обычаи, арестантское братство, общее движение.
Он нес такой бред с самым умным видом.
Нам он даже понравился.
Мы его постоянно тормошили и просили поведать о том, как сходить в туалет или подойти к двери, как обратиться к сотруднику и друг к другу.
Мудрый сосед снисходительно просвещал нас, неопытных.
Сотрудник-сержант открыл дверь и пригласил нас на прогулку.
Наш уголовный гуру дико заорал: «Начальн, дикверь открой пошире, пальцы не пролазят!»
Потом он порвал на себе майку, обнажив наколки, растопырил ладони и с песней «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил» направился к двери.
Сотрудник изолятора,судя по его лицу, такого страха никогда не видел за всю свою службу.
Он забыл захлопнуть «калитку» и ломанулся по коридору за подмогой.
После разборок с вертухаями татуированного гражданина от нас убрали.
– Ну, прям – весна! А…?! Солнышко-то как греет! А…?! – разглядывал оживленно Валерка соседние дома и улицы в небольшое зарешетчатое тюремное окно. Чему-то заулыбался. Вдруг как закричит:
– Э-ге-ге-гей…!!! Люди…!!! Человеки…!!!
Никто из сокамерников не поддержал его радостного настроения. Новенький сиделец после завтрака аккуратно сметал крошки со стола. А освобождавшийся сегодня Матвей в третий раз после подъема сидел на унитазе. Только Паша, сосед по шконке снизу, читавший газету, глубоко вздохнул.
– Ну чё ты бздишь? – в который раз привязывался Валерка к Матвею, – на волю, ведь не в земельный отдел… Откинешься сегодня! Братишка…!
– C моё в крытке посидишь, вот тогда на тебя посмотрю, – ворчал из дальнего угла Матвей.
– А ты не беспокойся! Мне и так семнадцать годков тянуть… ещё успею… Эх! А я бы на твоем месте… сразу к бабам, и водки – стакана три! Или, наоборот… уж я покуражился бы, – хорохорился, мечтательно наставляя товарища, Валера.
Матвей, c зеленовато-бледного оттенка лицом, неторопливо собирался. Скрутил тонкий матрац, в наволочку покидал казенное постельное белье. Полупустой тюбик зубной пасты оставил на полочке, щетку швырнул в мусорное ведро.
– Снарядил шекель-то свой? Ничего не забыл? – спросил несмолкаемый Валерка.
– Чего собирать то? – буркнул Матвей. На всякий случай проверил карманы и полупустой цветной пакет.
C противным резким стуком открылась дверная форточка. Новенький сдал баландеру грязную посуду. Прыщавый баландер, недосчитавшись одной ложки, застучал черпаком по двери.
– Ну, что ты грабками-то стучишь, лось сохатый? – подбежав к форточке, чертыхался Валера.
– Вам четыре чашки и четыре ложки выдано. Где ложка? – прогундосил баландер.
– Очнись! Милый! Ты три шлемки баланды накропил. И всё… Так, что, покеда! Нужны нам твои весла… луну, что ли тебе здесь крутим…?
– Всем поровну разливаю, – обиделся баландер.
– Вот, вот… Сам жри свой горох вонючий в следующий раз… По длинному продолу уже вышагивал в их сторону здоровенный охранник. Люто ненавидимый и презираемый зеками Славик, в новехоньком камуфляже, чуток скрывающий его несуразно развитое тело, больше похожее на головастика, игрался дубинкой и смачно сплевывал на пол.
Валерка швырнул недостающую ложку в форточку, – нате! Подавитесь!
Форточка c силой захлопнулась. И тут же снова открылась.
– Чего бузим…?! Типа… проблемы нужны?! – злорадно поинтересовался Славик – в предвкушении кого-нибудь из четверых отдубасить и посадить в карцер.
– Все нормально, командир! Мы поняли, и уже исправляемся, – ответил за всех Матвей.
Окошко закрылось.
Валерка еще минут пять ходил из угла в угол, со злобой выговаривая:
– Вот гнида! Если бы не дядя его…, втетерил бы тогда племяшу, посшибал рога… Опарыш! Мать его…
– Присядем на дорожку, что ли, – предложил Матвей.
Присели. Закурили. У Матвея сильно дрожали руки.
– Не дрейфь! Все будет ништяк! – подбодрил Валерка, хлопая по плечу кореша.
– Я разговаривать-то по-человечески разучился, – подтрунивал Матвей над собой. Показал синие от множества татуировок пальцы, – весь расписной!
– В магазинах, что хочешь c полок берешь, на кассе монету только всучишь, тебе сдачу, – влез в разговор новенький, – месяцами можно ни c кем не общаться. Хоть подохни! Никому не нужен.
– Чего в разговор встреваешь? Ушастик! – наскочил Валерка на новенького.
– Отвяжись ты от него, – заступился Матвей.
Открылась дверь камеры. Попрощались. И Матвея увели… А еще через полчаса, его благополучно выпихнули за ворота, на свободу…
Как только за Матвеем захлопнули дверь, в камеру влезло давящее, вязкое чувство безысходности, щемящей тоски…
Валерка до вечера слонялся из угла в угол, нервно хрустя пальцами. В очередной раз, подойдя к окну, завопил на всю улицу отборным матом.
Как и предвидел Паша, быстренько прячась под одеяло, дверь в камеру отворилась незамедлительно…
Трое охранников взопрели, пока выволакивали Валерку на продол. Он пинался, норовил укусить, упирался, цепляясь за железные прутья нар. Извиваясь, сшиб со стены полку, рассыпав чай и папиросы. И, когда его за ноги уже тянули через дверной проем, все же изловчился схватить грязную половую тряпку и хлестануть по физиономии Славика.
C шумом и воем на всю тюрьму, нещадно лупцуя дубинками, Валерку c трудом все же допинали до подвала и водворили в карцер.
– Чего, это он? – спросил новенький Пашу, прибираясь после потасовки в опустевшей камере.
– Безнадега, – задумчиво произнес старый зек, – безнадега…
Последнее дежурство курсанта Карманова
В одной из камер в самом конце тюремного коридора послышалась возня, а затем глухой стук упавшего на пол человеческого тела. В здании следственного изолятора, в особенности ночью, держалась изумительная акустика. Построенная по высочайшему указу Екатерины Великой, тюрьма привычно передавала любой шорох, кряхтение, покашливание, даже топоток мышки, спешащей по своим мышиным делам вдоль камер. Трое дюжих прапорщиков, бросив игру в карты, кинулись на шум, выяснять, что произошло в одной из дальних от поста камер. Курсант Александр Карманов остался на посту у железного откидного столика со строгим наказом старших товарищей по дежурству засыпать пригоршню чая в банку с кипятком.
Вода закипела, забулькала в банке. Края литровой емкости запотели. Знатная порция заварки, всыпанная курсантом в стеклянный сосуд, стала быстро набухать. Ответственного за чай взяло сомнение, не многовато ли заварки для одного разового чаепития, но согласно инструкции уже седовласых, повидавших жизнь прапоров выходило, что почти половина двухсотграммовой пачки на литровую банку это то, что надо для «купца». С их слов, зековский крепкий «чифер» они не употребляли. Минуты через две Карманов приоткрыл крышку, вдохнув аромат густого чаища. Его судорожно передернуло, тряхнуло и зашатало до головокружения. «Какой же тогда „чифер“, – подумал курсант, – если эта черного цвета вязкая жидкость уже гремучая смесь?!»
Вернулись прапорщики, шибко раздосадованные тем, что зек, непомерно юркий старикан, просто-напросто сам в четвертый раз упал во сне со второго яруса нар, а не был скинут своими сокамерниками. И прапора не возымели на сей раз причину, чтобы заставить нарушителей внутреннего тюремного распорядка проделать несколько упражнений дисциплинарной профилактической физкультуры: поотжиматься, поприседать, словом, скоротать часок-другой своей что-то сегодня обыденно проходящей ночной смены. Все присутствующие, кроме Карманова, струхнувшего проводить опыты над своим не столь многоопытным желудком, сели пить «купца» вприкуску с карамельками. Оценив по достоинству индийское чайное производство, продолжили они карточные баталии. Курсанта прапорщики не стеснялись, то ли безоговорочно приняв в свои ряды, то ли пока не сочтя его достаточно важной персоной. Скорее всего, второй вариант был наиболее верным. Дежурного майора Валентина Валентиновича они, правда, побаивались, но за глаза над ним подсмеивались, называли его «Валет Валетычем», и не могли простить ему сегодня соленых окуней Карманова, которых майор оставил себе на ужин. Рыбешка, со слов курсанта, была чуток пересолена, однако, дело было не в самой рыбе, а в принципе: человек в свое последнее дежурство или вернее в последний день практики угощал всю смену. Килограммов на шесть пакет красивых красноперых рыбин остался в дежурке «под присмотром» дежурного и «пультерши» Валентины Степановны.
– Валентиныч, хоть по рыбке на каждого… не беспредельничай, – гурьбой насели на майора перед заступлением на дежурство прапора.
Ночь в КПЗ
Я был задержан без документов ретивыми омоновцами. Поневоле пришлось взглянуть на КПЗ и его обитателей как бы со стороны. Обитателей, собственно, было не много — всего один молодой взъерошенный человек, ужасно обрадовавшийся компании. К полуночи меня стал потихоньку мучить похмельный синдром, и именно с этого момента сосед приступил к длительному рассказу о случившемся с ним. Повествование не было похоже на исповедь или на попытку разобраться, выслушать какой-то совет, слова поддержки. Сумбурный поток слов; какой-то труп в ванной (женщина-собутыльница), неизвестным образом (?) очутившийся в квартире; зашел отлить (совмещенный санузел, увидел труп — все! посадят, ничего не докажешь). Делать нечего: позвонил приятелю; тот прибыл через час; помог расчленить труп (для удобства выноса, не более того). Выносили в полиэтиленовом мешке, в три часа ночи; на беду, сосед возвращался из кабака. Из мешка капала кровь — заметил, дурак. И получил разделочным ножом в солнечное сплетение. Но не умер, гад, а дополз до двери своей квартиры, поскреб слабеющими пальцами. Жена вызвала «скорую», милицию. «Нас с Васей задержали. Вальке с сердцем плохо было, факт! Она сама умерла. А мне что делать?»
«За соседа накатят тоже — будь здоров!» — подумал я. Слушать эту убийственную историю было тошно, невмоготу, как смотреть какой-нибудь захудало-халтурный фильм ужасов. Не было жаль ни Васю, ни соседа по камере. Не было жаль — в смысле законности предстоящего наказания. Что-то шевельнулось лишь тогда, когда представил их длинный «с Васей» путь: тюрьма и зона на долгиедолгие годы, несомненные косяки и попытки сократить или ослабить карательное действо. В соседе не было ни здоровья, ни «духа». Всю ночь он вращал языком, сотрясал спертый воздух КПЗ, усиливая мое похмелье и тягу к свободе. Наконец наступило утро, дежурный милиционер открыл дверь.
Я вежливо попрощался с сокамерником, добавив лишь одно: «Спокойней, земляк, спокойней». Но «земляк» уже вычеркнул меня из своей жизни, метнулся к двери и забормотал в лицо дежурному: «Выпускать-то будут скоро, а? Ну что, разобрались? Разобрались? Разобрались?»
«Разобрались, — толкнул его обратно в «хату» милиционер. — Сиди тихо, не галди…»
Он прошел в дежурку, получил обратно «отметенные» шмоном вещи: часы, шнурки, ремень и т.п., тут же при понятых обыскивали наркомана: какие-то пузырьки, шприц, нож-бабочка…
— Деньги у вас были? — спросил капитан у меня. — Там все записано.
А, точно, вот: 78 тысяч 500 рублей. Штраф 25 тысяч, можете здесь уплатить. Или в сберкассу — три остановки на троллейбусе.
— Да нет, я лучше здесь… да хрен с ней, с этой квитанцией…
— Положено, — строго ответствовал капитан, но бумажку спрятал, четвертак бросил в ящик стола и кивнул, разрешая покинуть «заведение».
— А за что штраф-то? — спросил я уже у двери.
— За это… за нахождение… в общественном месте.. в этом, как его?
Нетрезвом виде… Иди, иди…
— Прощайте.
Фан Фаныч
Эту историю я слышал раза три, причем от разных людей, но в главных деталях она совпадала один к одному, и даже имя главного героя везде было одно и тоже — Фан Фаныч. (Скорее всего, имя все-таки вымышлено, потому что по блатной «фене» «Фанфаныч» означает — представительный мужчина.) Не знаю, было ли это на самом деле, но все очень похоже на правду.
А если учесть, что на зоне случаются вещи абсолютно невероятные, то тем более можно поверить рассказчикам. История эта поучительная, и говорит она о том, как порою человек находчивый и остроумный может приобрести уважение среди заключенных. Вот краткий пересказ от первого лица.
На одну из фаланг Бамлага, где я шестерил у нарядчика, прибыл московский трамвай. Так, ничего особенного, трамвай как трамвай, обычный.
Раскидали их по баракам, вечером расписали по бригадам и объявили, кому завтра кайлом махать, кому с носилками крутиться. Утром рельс бухнул, всех на развод. Бригады построились и разошлись на работу. Моя задача пробежаться по баракам и доложить нарядчику, что к чему. Обежал — кроме больных и одного со вчерашнего московского трамвая, все на работе. Иду, докладываю нарядчику:
— В четвертом бараке один отказчик. Все остальные на работе.
— Кто такой? — аж побагровел нарядчик. — А ты, сука, куда смотрел?
Почему не выгнал? Лоб, что ли, здоровый? Или — козырный?
— Да нет, — говорю, — какой там лоб… Смотреть не на что. Глиста, но чудной больно. Требует, чтобы его к начальнику фаланги доставили. Без промедления, говорит…
— Ах ты, шнырь! Сейчас я ему дам начальника фаланги! Он у меня пожалеет, что его мать на свет родила! — Бросил свои бумаги и мне: — Пошли!
Заходим в четвертый, навстречу нам эта тощая мелюзга, ханурик. Не успел нарядчик хайло разинуть, а тот ему командным голосом:
— Вы нарядчик фаланги? Оч-чень хорошо, вовремя… Я уж хотел о вас вопрос ставить перед начальником. Вот что, любезный… Прошу обеспечить мне рабочее место, чертежную доску, ватман и прочие принадлежности. Еще расторопного мальца мне, для выполнения мелких технических работ!
Повернулся резко, палец ко лбу приставил, другая рука за спиной и пошел по проходу барака.
Много повидал за годы отсидки здоровенный нарядчик, но такого, чтобы его сразу, как быка за рога да в стойло, такого сроду не бывало. Обычно при виде нарядчика со сворой шестерок каждый зек норовит зашиться куда-нибудь, скрыться с глаз, да хоть сквозь землю провалиться. А тут нарядчику захотелось самому спрятаться. А тот, хмырь-то, развернулся в конце барака и опять на нас пошел. Брови сдвинул, сурово так:
— Вас о моем прибытии сюда, смею надеяться, уже проинформировали?
— Не-е… — промычал нарядчик.
— Тогда почему вы до сих пор тут стоите? Я вас спрашиваю! Идите и доложите: Фитилев Фан Фаныч прибыл! Там! — Фан Фаныч ткнул оттопыренным от кулачка большим пальцем за плечо и замолк.
Что означает это «там», быстро соображал нарядчик, но никак не мог сообразить.
— Там, — продолжал Фан Фаныч, — я занимался решением проблемы большой государственной важности. Мне дорога каждая минута, а потому прошу вас немедленно доложить обо мне.
И Фан Фаныч дружески потрепал растерявшегося нарядчика по плечу.
Через несколько минут, вытирая со лба испарину, нарядчик стоял перед начальником фаланги.
— Что там у тебя стряслось? — спросил «хозяин».
— Вчерашний трамвай чудного привез. Говорит, что он большой ученый и вас должны были поставить в известность о его прибытии.
Начальник призадумался. Он знал, что Берия понасажал в лагеря ученых с мировыми именами, чтобы те не отвлекались, пьянствуя, заводя шашни с чужими женами и интригуя друг против дружки, от решения больших государственных проблем. Те работали в обстановке большой секретности в «шарашке» и спецбюро. За хорошее обеспечение и уход за ними, за поддержку и помощь по решению задачи создания новых типов самолетов и вооружения начальники получали внеочередную звездочку. Все это несомненно начальник мигом прокрутил в голове. Может, и мне пофартит, наверняка прикинул он.
— Веди! — приказал «хозяин». — Поглядим, что за птица…
Через некоторое время дверь без стука распахнулась. Так входят в кабинет начальства только те, кто знает себе цену. Подойдя к привставшему из-за стола начальнику, Фан Фаныч протянул руку для приветствия и добродушно сказал:
Все это ошеломило и озадачило не только самого начальника, но и во второй раз нарядчика, который вошел следом и топтался возле дверей. Хозяин зоны привык к тому, что все его называют не иначе как — гражданин начальник. А этот запросто, по имени-отчеству. Откуда только имя узнал?
И что это за намек насчет какой-то правды в ногах? Кто не знает, что правда сидит, а не стоит? Что за всем этим кроется? И почему этот Фан Фаныч уселся без приглашения в мягкое кресло? Василь Васильевичу стало не по себе. А вдруг это никакой не ученый, а лагерный прохиндей.
Тем временем Фан Фаныч продолжал говорить. При этом он то кивал на телефон, то тыкал указательным пальцем куда-то вверх, то большим пальцем указывал за спину:
— Так вы позвоните начальнику всех лагерей железнодорожного строительства на Дальнем Востоке Френкелю Нафталию Ароновичу. Он в курсе. Можете от себя добавить, что я прибыл и благодаря вашей заботе приступаю к работе над проектом без промедления…
Фан Фаныч верно просчитывал ситуацию и знал наперед, что с фаланги Френкелю не дозвониться, да и начальник зоны не отважится беспокоить одного из высших гулаговских чинов, к тому же крутого по жизни, по такому пустяку.
— Позвольте поинтересоваться, — осторожно начал «хозяин», — над чем вы работаете?
Он сам поморщился от того, что обратился к зеку на «вы».
— Разглашать не имею права. Государственная тайна. — Фан Фаныч подумал и добавил, понизив голос: — Только вам, как непосредственному начальнику, вкратце, в двух словах, без подробностей и деталей. Многие ученые мира бились над проблемой осушения озера Байкал, затрудняющего сообщение Дальнего Востока с европейской частью. Великому Эйнштейну, лауреату Нобелевской премии, и то проблема не покорилась. Только я уже почти нашел ключ к реализации этого проекта. Все идеи и наброски расчетов тут.
— Он постучал себя по лбу пальцем.
— Сколько времени вам потребуется для решения этой проблемы? — спросил «хозяин».
Он прикидывал: «У него четвертак. Заломит сейчас лет двадцать. Тут ты гусь и всплывешь на чистую воду. Будь ты шарлатан, будь ты ученый, но я не дурак ждать столько лет».
— Поскольку все расчеты в основном готовы и находятся здесь, — Фан Фаныч снова постучал костяшками пальцев по своей стриженой голове, — то потребуется несколько месяцев. Может, три, может, четыре, ну максимум полгода…
Договорились быстро. «Хозяин» обеспечивает Фан Фанычу необходимые условия для доработки проекта, а тот через полгода сдает готовый проект, о чем «хозяин» самолично доложит наверх.
В тот же день «великий ученый» получил в свое распоряжение отгороженный угол в бараке, а уже на следующее утро там дымилась печка, сложенная для него персонально. Дабы мысли в голове не остужались. В последующие дни его «технический секретарь» то и дело бегал то за дровами, то с котелком на кухню, то к выгребной яме с парашей на одну персону.
Получив все необходимое, Фан Фаныч принялся за работу. Вскоре, получая двойную пайку, он поправился, нагулял жирок. На него с завистью приходили смотреть зеки, особенно с новых этапов. Несмотря на все отсрочки
и затяжки, пришло время сдавать проект. «Великий ученый и изобретатель» сумел настоять на том, чтобы защита и передача проекта состоялась в присутствии авторитетной комиссии, и она прибыла. Фан Фаныч появился в просторном кабинете «хозяина». Поздоровавшись с членами комиссии и назвав некоторых по имениотчеству, он небрежно кинул рулон ватмана на стол начальника.
— Прежде чем приступить к изложению моего открытия, — начал Фан Фаныч, — я хотел бы, с разрешения уважаемой комиссии, задать присутствую щим несколько вопросов, вводящих в курс дела.
Получив разрешение, он обратился к важному московскому чину:
— Скажите, много ли у нас в стране лагерей и колоний?
— Точная цифра — секрет государственной важности, — ответил чин, — но могу сказать однозначно. Много.
— А много ли в них содержится зеков?
— Много, очень много, — зашумели члены комиссии, которым не терпелось ознакомиться с величайшим открытием века.
— Поясню свою мысль вкратце, — продолжал Фан Фаныч, — потом у вас будет возможность ознакомиться с проектом в деталях, посмотреть чертежи, диаграммы, графики. Все пояснительные документы и расчеты в этой папке.
Итак. Члены комиссии знают, это не является ни для кого большим секретом, что в обход южной и северной частей Байкала нам приходится прокладывать железную дорогу. Это для страны обходится чрезвычайно дорого, к тому же растягиваются сроки пуска участков в эксплуатацию. Приходится разрабатывать огромное количество скального грунта. Поэтому я выбрал самый дешевый и самый оригинальный вариант прокладки железнодорожных путей по осушенному дну Байкала. В чем его основная суть? К Байкалу, как по южной, так и по северной железнодорожной ветке подвозим шестнадцать миллионов вагонов сухарей. Ссыпаем в озеро. Затем ссыпаем туда же семь миллионов вагонов сахарного песку. Как известно, вода в Байкале пресная.
Прибытие автозака
Автозак остановился: послышалось лязганье сдвигаемых ворот так называемого "шлюза"; машина въезжает в "шлюз" закрываются первые ворота, и открываются еще одни. Автозак въезжает во двор тюрьмы. Все меняется: интонации голосов конвоя, лай овчарок, запахи. Если успеешь оглянуться вокруг, то увидишь иные цвета, иные камни. Конвоиры равнодушно-спокойны, однако в содружестве с тюремщиками могут "нагнать жути": напустить овчарку на кого-нибудь, наподдать прикладом по ребрам. Роптать бессмысленно: "нагнетание жути" испытанный элемент тюремной практики.
Боксы и транзитки
Из автозака заключенные переходят в боксы: начинается "сборка". Боксы -небольшие камеры площадью от 1 квадратного метра с узкой скамьей или выступом вдоль стены. В них помещаются заключенные перед этапом, перед вводом в камеру, во время вызова к следователю или адвокату и т.п. Именно на сборке, а точнее в боксах и в транзитных "хатах" (камерах) человек впервые сталкивается с законом и беззаконием (беспределом) тюремно-лагерного мира. В транзитках зековский народ проходит еще не сортированный ни по каким признакам, сплошными потоками - и затем исчезает в неизвестных направлениях. Сколачиваются временные группировки беспредельщиков, обирающие первоходочников и просто бессловесных зеков. В боксах случаются неожиданные встречи: вот прячет лицо "козел" с общего режима; вот жмется к стене перепуганный фуфлыжник, сломившийся с зоны от расплаты и расправы по карточным долгам; вот "стукачок" лагерный поглядывает по сторонам и тянется ближе к двери - узнает кто, так легче будет застучать, замолотить кулачками - помогите, мол, товарищи!
Впрочем, этот период жизни зека богат и положительными впечатлениями. Люди иногда сходятся мгновенно, взаимные симпатии за короткий срок перерастают в уважение и дружбу, зек по-братски поддерживает зека.
Никогда не забуду Валерика Зангиева, осетина из города Алагир, "подогревшего" меня десятью пачками сигарет, полотенцем и "марочками" (носовыми платками) перед разводом по постоянным "хатам". Наш ночной разговор ("базар") в транзитке питерских "Крестов" не просто скрасил существование, а дал мне лично длительный заряд бодрости и пополнил скудный запас сведений о тюремной жизни.
Сборка - действие, мероприятие, аналогичное, скажем, одновременной записи данных новорожденного в роддоме и его регистрации в ЗАГСе. На "новорожденного" зека заводится дело; в специальную карту при нем заносятся его особые приметы, татуировки, шрам от аппендицита. Обязательно дактилоскопия (отпечатки пальцев), медосмотр.
От первичного медосмотра в СИЗО (тюрьме) может зависеть очень многое. Занесенная в медкарту болезнь, а тем более инвалидность помогут выхлопотать медпомощь, лекарства на долгом пути от тюрьмы до зоны, а в самой зоне получить соответствующую работу. Впрочем, раньше практиковалось снижение 1-й группы инвалидности до 2-й, 2-й до третьей, а 3-й - до "возможности легкого труда".
Абсолютными льготами по инвалидности пользуются лишь явно увечные безногие, слепые, безрукие или находящиеся в двух шагах от "гробового входа". Но иногда и у одноногих и одноруких отбирают деревянную ногу или протез - до этапа на зону, по усмотрению врачей. Полностью безногого носят на руках сами зеки - был и такой случай, старичок на тележке подъехал к супружнице и зарубил ее топором, получил 9 лет... А в тюрьме какая тележка? Раскатывать негде....
Шмон в тюрьме
Шмон в тюрьме резко отличается от поверхностного капэзэшного шмона. Из подошв обуви выдергивают супинатор (железную пластину, пригодную для изготовления заточки), заставляют присесть раздетого догола зека, раздвинуть ягодицы; ощупывается досконально вся одежда.
Существует множество способов проноса денег и запрещенных предметов в тюрьму и зону, они достаточно подробно описаны в детективно-тюремной беллетристике. К тому же еще до тюремных ворот многие из этих способов становятся известны первоходочникам от бывалых людей. Как мы уже говорили, отбираются в основном предметы, могущие послужить орудием самоубийства и убийства. Впрочем, если и не хочется ни кончать с собственной жизнью, ни прерывать чужую, то все-таки запрещенный предмет "мойка" (лезвие), гвоздь или катушка ниток дают ощущение некоей победы над тюрьмой, дают чувство свободы и независимости...
В свое время я ухитрился довезти от КПЗ и пронести в зону ни разу не пригодившуюся мне половинку ножовочного полотна; всякий раз прохождение шмона с полотном оборачивалось неделей хорошего настроения.
Парикмахер превращает гражданина в тюремного зека: борода, часто усы, вообще волосы состригаются, бреются. До суда по закону стричь наголо нельзя, но в тюрьме стрижка обычно аргументируется вшивостью, чесоткой и т.п. Между прочим, стриженный наголо подсудимый вызывает у судьи и "кивал" (народных заседателей) вполне закономерные ощущения. Лысая голова может обернуться лишним годом срока.
Фотограф увековечивает "нового человека" для тюремного дела и всевозможных регистрационных карт. В тюрьме все иное, особое так и эти фотоизображения в фас и в профиль (необязательно даже быть лысым) превращают симпатичное лицо в преступный образ: меловые щеки полупокойника, остекленевшие глаза... Это касается не только фото на входе в тюрьму фото для справки об освобождении точно такое же.
Баня, прожарка
Перед раскидкой по постоянным "хатам" (камерам) все зеки в обязательном порядке проходят две санитарные процедуры: баню и т.н. "прожарку". Зеков отправляют в баню, о которой мало что можно сказать; в некоторых тюрьмах это заведение вполне сравнимо с подобными заведениями на воле, в других напоминают помывочный пункт эпохи военного коммунизма (кусочек мыла величиной с мизинец и никаких мочалок).
Вещи едут на крючках в дезинфекционную прожарочную камеру (от вшей и т.п.). Вместе с вшами (если таковые имеются) гибнут также пластмассовые пуговицы, синтетические волокна; одежда приобретает изрядно помятый облик. Можно, конечно, договориться с зекомобслугой: кто откажется от пачушки сигарет? И одежда останется целой. Но опять же и вши не пострадают...
Постельные принадлежности
Перед самым входом в "хату" государство выдает своему гражданину казенные атрибуты: постельное белье (две простыни, одеяло, наволочку), матрас, полотенце, иногда, зимой, нижнее белье (солдатские кальсоны с завязками внизу и нижняя рубаха, майка, трусы. Кальсоны эти мало кто носит, но зато они хорошо горят, доводя до кипения чифир в казенной алюминиевой кружке. Одеяло превращается в теплую безрукавочку; из простыни можно нарезать полосы для запуска "коня" в "хату" ниже этажом. Вычтут, конечно, за порчу какие-то деньги, но это когда будет! А польза - вот она, сей час!
Вход в камеру
Наконец по три-четыре человека ведут пупкари (надзиратели) по мрачным коридорам тюрьмы, передают коридорным дежурным. Звякают засовы, скрипят замки, открывается тяжелая дверь, покрытая стальным листом, вы протискиваетесь, с трудом удерживая матрас и мешок, в камеру; пупкарь подталкивает, энергично запирает дверь и на вас устремляется десяток пар глаз тех, с кем вам отныне придется делить тяготы и скромные радости тюремной жизни.
Можно лишь посмеяться, вспомнив "входы в хату" из советских и нынешних кинофильмов. Ангельских лиц, конечно, не увидишь в настоящей тюрьме, но и рожи вроде Доцента из "Джентльменов удачи" - большая редкость.
Сейчас во многих тюрьмах разрешены телевизоры. Если "хата" большая (в Бутырке, например), то телевизор не помеха. Но трудно представить "ящик" в маломерной и переполненной "хате" питерских "Крестов". (На тюремной "фене" (жаргоне) "телевизор" шкафчик настенный без дверок, с полками, на которые кладутся пайки, кружки и все остальное, аналогичное.)
Встреча новенького нынче происходит коегде абсолютно равнодушно, без всякого интереса. По свидетельству очевидца на его появление в "хате" никто даже не повернул головы, настолько "граждане" были увлечены просмотром очередного "сеанса" аэробики или шейпинга. (Кстати, "сеанс" потюремному изображение женщины в обнаженном или полуобнаженном виде, эротика, порнография. Раньше это были открытки, рисунки, теперь же "сеанс" можно раскавычивать слово обрело буквальное воплощение.)